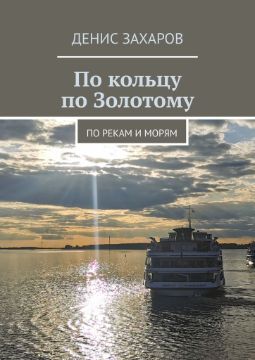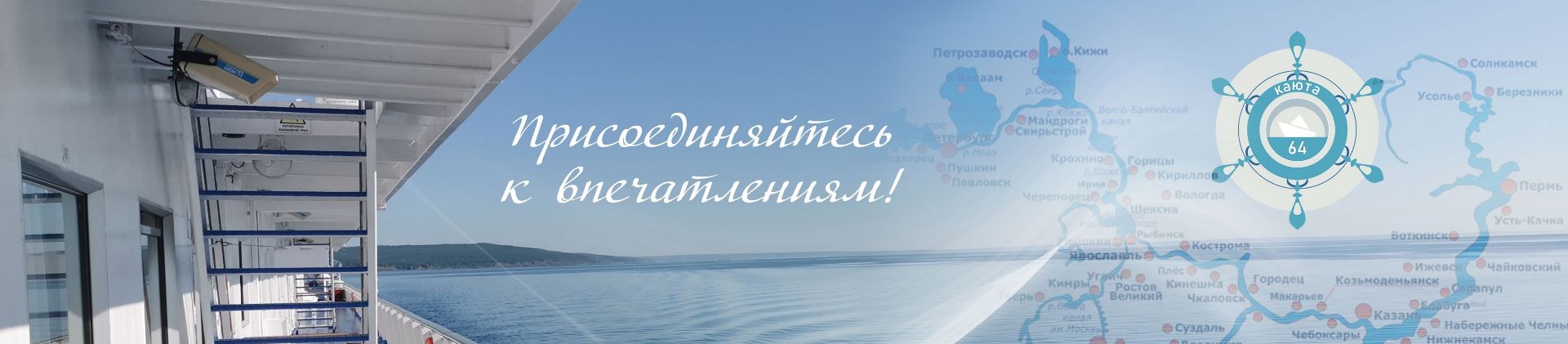Спустя несколько часов, в начале одиннадцатого утра, поезд прикатил нас с Ириной на Павелецкий вокзал столицы. Утро так и не распогодилось, разве что сплошная серость теперь разбавлялась редкими белесыми облачками, несущимися куда-то по своим делам. Умные часы показывали +3 градуса, по ощущениям было и того меньше.
Наш план на ближайшее время был предельно четок и прост — вкусно и плотно пообедать и к трем часам дня по зеленой ветке метро прибыть на Северный речной вокзал, откуда в половине шестого вечера мы отправлялись на новом для нас теплоходе «Антон Чехов» в пятидневный круиз по городам Золотого кольца. Нас ждали Углич, Ярославль и Кострома. Пусть маршрут и знакомый, но после долгой зимы уже не терпелось очутиться на борту лайнера и отправиться хоть куда, лишь бы поскорее погрузиться в атмосферу речного путешествия.
С пунктом первым отлично справился хорошо зарекомендовавший себя грузинский ресторанчик на минус третьем ярусе комплекса у Павелецкого вокзала. Гостим мы тут уже не впервые, гарантированно наслаждаясь вкусами и запахами кавказской кухни: хачапури по-аджарски, салат «Цезаридзе с креветками», хинкали, выбор которых из предлагаемого разнообразия то еще испытание, грузинский пури в комплекте с контрастными соусами, немного фирменной чачи для создания настроения начинающегося отпуска и, конечно же, небольшой кувшинчик колоритного чая. В этот раз таким стал чай по-имеретински с кизилом и земляникой. Ирина даже взяла себе еще небольшой десерт — заманчивое и соблазнительное сочетание шоколада и мороженого.
Подобный завтрак, плавно превращающийся в обед, стал после железнодорожного трансфера закономерным продолжением процесса плавного переключения мозга с заряженности на борьбу со стрессом рабочих будней на состояние неги и расслабленности формата речного круиза. Теперь можно было и выдвигаться к причалам.
На станции «Речной вокзал» пришлось достать из чемоданов свитера и теплые шапки: температура опустилась еще на один градус, а серое небо того и гляди могло треснуть и осыпаться на землю не то дождиком, не то и снежком. Однако данное обстоятельство никак не могло испортить настроение: образ уютной теплой каюты теплохода, ждущего нас в каких-то двадцати минутах пешего хода, позволял вообще забыть про погоду и сосредоточиться лишь на нетерпеливом сладостном ожидании.
Сумерки парка, тоннель под Ленинградским шоссе и знаковая композиция девушки с яхтой быстро остались позади. Подгоняемые интригой интерьеров «Антона Чехова», мы спешили к причалам, но у здания Северного речного вокзала пришлось немного задержаться — очень уж необычные здесь были инсталляции, подготовленные, видимо, к только что отгремевшему Дню Победы. Пришлось даже устроить спонтанную фотосессию — пройти, не сфотографировавшись под кроной белоснежной сирени, украшенной бантами из георгиевской ленты, было невозможно.
Нумерация причалов, если спускаться к пристани от вокзала, идет справа налево. Нам надо было двигаться к тринадцатому причалу, почти в самый конец причальной стенки, где, согласно расписанию, нас должен был ожидать «Чехов». Действительно, некая группа теплоходов, словно мерзнущих, отчего прижавшихся друг к другу, плотной кучкой виднелась вдали пристани, к ним мы и направились.
На «Чехове» нам бывать еще не случалось, даже с экскурсионным агентским осмотром. Теплоходов такого проекта на наших реках всего два, и их маршруты в основном сосредоточены в акваториях Верхней Волги и на линии Москва — Санкт-Петербург. Единственный собрат «Антона Чехова» — теплоход «Лев Толстой». В анонсах этой пары теплоходов одной из главных конструктивных особенностей выступает крытый бассейн на борту, и, как турагенту, мне было весьма любопытно увидеть и оценить всю функциональность данного решения.
«Чехов» стоял первым у причала, вторым бортом к нему был пришвартован «Максим Литвинов». Парочка хоть и расположилась у 13-го причала, но была даже не самой последней. За ней разместился «Илья Репин», еще один выпускник австрийских верфей. Судя по скоплению разношерстного люда рядом с ним, там тоже шла регистрация пассажиров.
Пульс участился по мере приближения к трапу. Конечно, такого трепета, как раньше, уже не бывает, вероятно, сказывается более частая круизная практика, но ожидание первого взгляда, первого знакомства с новым теплоходом всегда волнительно.
Часы показали 13:31, когда дежурный матрос помог нам взойти на трап и предупредительно открыл дверь. Небольшой порожек, шаг… и вся планета осталась где-то в другой реальности. Мы оказались внутри.
***
Этим же самым днем, 12 мая 2024 года, почти в тысяче километров от столицы, в небольшом удмуртском городке Можге, в одном из многоэтажных домов по улице Родниковой, с самого утра царил невообразимый переполох — Митька Кашин основательно собирался в первую в своей жизни командировку.
Точнее, в командировку по рабочим делам в Кострому ехала его мама, но Митька упросил ее взять его с собой. Тем паче что в Костроме жила мамина дальняя родственница, которая согласилась приютить путешественников на пару-тройку дней. Для Митьки же критически важным фактором отправиться вместе с мамой стал именно город назначения — Кострома.
Уже год прошел с того момента, как Митька впервые увидел большой пассажирский теплоход. Прошлой весной, когда Митька гостил у деда в деревне и ходил на рыбалку на Вятку, мимо мальчишки величаво проплыл красавец «Некрасов». Митька пришел в полный восторг и с тех пор просто «заболел» теплоходами. Он потратил многие часы, сидя в интернете в поиске всевозможной информации о речных лайнерах, их различиях и маршрутах, по которым ходят круизные суда. Параллельно пришлось углубиться и в географию, без нее никак нельзя было разобраться в хитросплетениях судоходных рек. Зато теперь он без труда мог на память рассказать, мимо каких больших городов пройдет корабль, следуя, например, из Москвы в Пермь.
Прознав, что мама едет в Кострому, Митька сразу смекнул, что в этом городе шанс еще раз встретить речной теплоход практически гарантирован. Причем, многие суда в Костроме еще и останавливались, стало быть, можно было не просто увидеть проплывающий мимо теплоход, а даже подойти и разглядеть его поближе, а если уж совсем повезет, то и дотронуться до него.
— А может быть, и в рубку капитанскую попаду! — подумал Митька и аж зажмурился от смелости пришедшей в голову идеи.
Где то место, куда мама ехала в командировку, где тот дом, в котором им предстояло провести две ночи, как далеко от этих мест до Волги — такие мысли в Митькину голову не приходили. Он почему-то был уверен, что в Костроме все близко и ему уж точно удастся убедить маму попасть с ним к причалам.
В поездку Митька собрался со всей тщательностью, часть вещей пришлось даже выгрузить. Вышел даже небольшой скандал по поводу бинокля, пускай отчасти и игрушечного, но Митька настоял, чтобы этот атрибут путешественника обязательно остался в багаже: шагающим вдоль причалов он видел себя исключительно с биноклем на шее.
Наконец папа привез их на вокзал, и ровно в 13:31 поезд робко дернулся и, ускоряясь, покатил Митьку навстречу мечте.