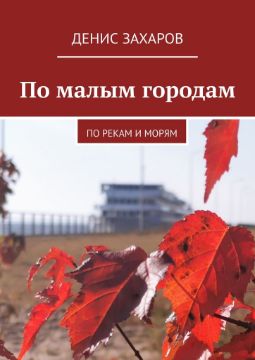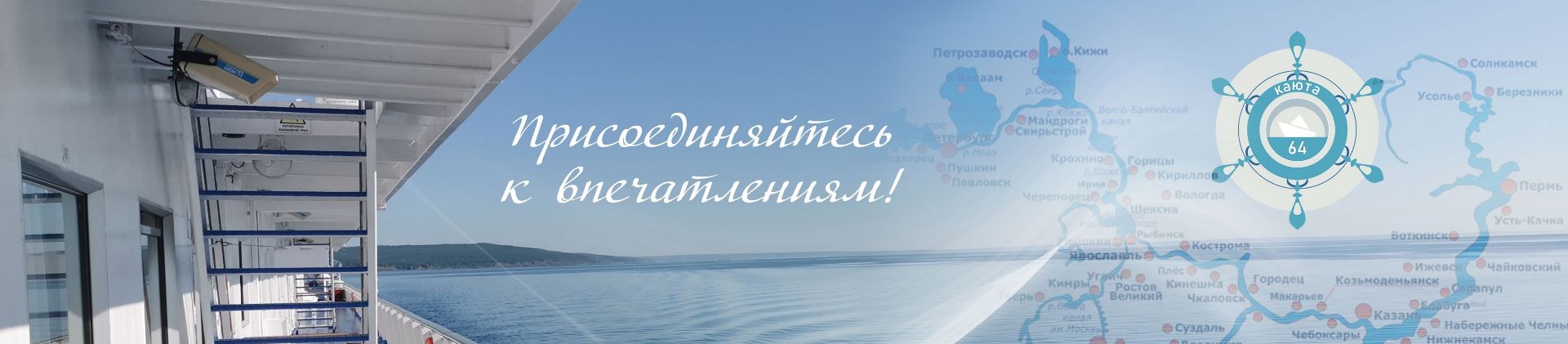Тридцать лет назад Чемезов, учась на третьем курсе филологического факультета Питерского университета, оказался в группе студентов, где заводилой был некий Славка Говорун, заканчивающий в тот год факультет физический. Познакомившись как-то на одной из бесчисленных студенческих вечеринок, ребята сблизились, и как-то само собой незаметно для себя Федор влился в Славкину компанию.
Собирались почти всегда в общежитии, где и жил Славка. В Питер он перебрался поступать откуда-то с Урала, где последние годы школы воспитывался теткой. Родители его погибли при каких-то странных обстоятельствах. Рассказывать про то Славка особо не любил, упоминая лишь, что после того случая стал интересоваться некой загадочной уральской легендой. Собственно, распутывание этой не то легенды, не то реальной истории, как был уверен Чемезов, местами граничащей с откровенной мистикой, и привело его в конечном итоге в северную столицу.
Поступив на физфак, Говорун с первого курса продолжал свое расследование. Ему удалось даже подключить кого-то из преподавательского состава кафедры. Позже он завел знакомства с питерскими энтузиастами, увлеченными похожими темами, но там у них был свой междусобойчик, куда непосвященные не допускались. Иногда Славку прорывало на откровения, и из этих весьма редких рассказов Чемезов смог сделать вывод, что цель поиска Говоруна – обнаружение и подтверждение некоего временного парадокса.
Федор в силу своего гуманитарного склада характера не всегда мог понять изобилующие терминами и описываемыми процессами повествования Славки, отчего и не мог глубоко в них вникнуть.
И вот однажды, в начале мая, когда в Питер сквозь туманные угрюмые облака наконец-то робко начало просачиваться весеннее тепло, в университетском общежитии небольшая группа студентов собралась обсудить злободневную тему отмечания окончания предстоящей сессии. В самом разгаре планирования дверь в комнату распахнулась и внутрь влетел Славка, неестественно возбужденный и взволнованный. Он, не обращая внимания на собравшихся, рухнул на кровать, замер на несколько мгновений, снова вскочил и, уже сидя, упершись взглядом на студентов, произнес:
– Есть!
Воцарившуюся тишину прервал Артем Мельников, одногруппник Славки:
– И?
– Есть зацепка, кажется! Завтра с пацанами с клуба договорились идти проверить, но мне просто не терпится ждать завтра! Может, сегодня?
Пацанами с клуба Говорун называл тех самых питерских знакомых, что вместе с ним искали и изучали всякую аномальщину.
– Ни о чем, Говорун. Детальней декламируй.
– На переходах «Площади Александра Невского» обнаружилась дверка одна интересная, сегодня и завтра она будет открыта. Диггеры из клуба месяца два назад ее отыскали, якобы даже внутрь заходили, но пока не ясно. Главное, метку оставили, – глаза Славки загорелись зловещим огоньком.
– Метку на двери?
– Да.
– Так если по диггерам не точно, кто ж про метку узнал?
– Письмо пришло клубному старшему. В письме фото той двери, я ее видел, вроде запомнил, что и где искать надо.
– Ну, а диггеры что говорят? – включился Чемезов, до того не особо внимательно слушавший сбивчивый рассказ Говоруна.
– Да их пока найти не могут. Вроде видел кто-то кого-то, но до конца не ясно.
– Бред! А почему ты решил, что дверь открыта будет? – снова спросил Федор.
– С фотографией записка была, там даты стоят сегодняшняя и завтрашняя и указание на переход станционный. Написана почерком Наждака, это позывной диггера одного.
– Дела! – протянул Мельников.
Славка вскочил с кровати и схватил Артема за плечо:
– Пошли сегодня! Просто посмотрим, найдем дверь эту хотя бы. Не терпится.
Артем обвел взглядом собравшихся. Все, кроме Федора, замотали головами, отнекиваясь от сомнительного похода. Чемезов же пожал плечами:
– Я могу.
Артем почесал голову и, немного поразмышляв, тоже согласился.
– Ладно, давай съездим, если тебе так не терпится. Но с тебя пиво. Давай фотоаппарат возьму. Только вчера пленку заправил. Зафиксируемся в моменте.
Собрались быстро. В ларьке перед спуском в подземку Говорун взял три бутылки пива и рассовал по внутренним карманам. И уже через десять минут трое искателей приключений ехали в поезде метро рыжей ветки. Путь их лежал до станции «Площадь Александра Невского», а дальше по переходу на зеленую линию.
Выйдя на перрон, студенты остановились и переглянулись.
– Веди, Холмс! – произнес Артем.
Казалось, Славка аж дрожал от волнения. Он выдвинулся первым, Артем и Федор за ним.
Прошли недолго. Говорун неожиданно остановился, развернулся и встал как вкопанный, отчего Мельников, не успев сманеврировать, на полном ходу в него врезался. Чемезов, шедший рядом, успел пройти пару шагов дальше и быстренько вернулся к первым двоим. Скучковавшись в кружок, Артем с Федором уставились на Славку.
– Есть! – шепотом ответил Славка на их вопросительные взгляды.
– Что? – также шепотом переспросил Федор.
– Метка! На двери! Мы прошли, метров десять назад, справа по переходу. Я сначала не поверил глазам, но все сходится. Прямо как на той фотографии.
Чемезов проследил за взглядом Говоруна. Действительно, в нескольких метрах позади них в стене, декорированной мраморными плитками, была встроена небольшая дверь. Выполненная в том же цвете, что и стена, она была практически незаметной. На ней была лишь наклейка с восклицательным знаком.
Тем временем Говорун посмотрел по сторонам, утвердительно кивнул и продолжал тем же шепотом:
– Не спеша подойдем к двери, как будто что-то обсуждаем, и там остановимся. Я попробую дернуть ручку.
– Постой, мы же собирались просто ее найти и все, – вяло попытался остановить его Артем.
– Хочу проверить, открыта ли, – и Славка неспешной походкой направился к двери. Его спутники с неким сомнением на лицах двинулись за ним.
У двери компания снова собралась в круг. Чемезов смотрел в одну сторону перехода, Мельников – в другую, взгляд же Говоруна был полностью сосредоточен на ручке двери. Кроме самой обычной железной ручки, прикрученной на четыре из шести шурупа, в двери была еще замочная скважина врезного замка. Кое-где со вмятинами, это была самая обычная дверь, коих огромное количество было разбросано в коридорах подземки. Что означала наклейка с восклицательным знаком, никто из троих не знал. Как и небольшой перевернутый треугольник под наклейкой, будто неаккуратно нацарапанный гвоздем.
Пешеходов в переходе были единицы, но студенты высматривали больше не их, а работников метрополитена, могущих спугнуть искателей.
– У меня никого, – констатировал Чемезов.
– Тоже чисто, – подтвердил свою сторону безопасной Мельников.
– Пробую! – подбодрил себя Говорун. Взялся за ручку и потянул на себя.
Дверь поддалась и беззвучно открылась. За ней в тусклом желтом свете дежурного освещения, забирая влево, уходил узкий коридор. Говорун сильнее открыл дверь на себя, невольно притягивая взгляды Федора и Артема.
– Нельзя же просто уйти, – ни к кому определенно не обращаясь, произнес уже не шепотом Славка и неожиданно нырнул в открытую дверь.
– Славка, чтоб тебя, куда? Стой, Говорун! – воскликнул Артем и тоже скрылся в коридоре.
Чемезов на мгновение опешил. Оставшись один в переходе, он прикрыл дверь, судорожно пытаясь сообразить, как ему лучше поступить. На зеленой ветке, видимо, пришел поезд, отчего в дальней от него стороне перехода начали появляться люди, с каждой секундой все больше и больше, и уже плотной толпой приближающиеся к Федору. Он выдохнул, приоткрыл дверь с треугольным знаком и юркнул в коридор, плотно прикрыв ее за собой.
И сразу же очутился в тишине и полумраке. Теперь он по-настоящему разглядел габариты прохода – пройти тут можно было только друг за другом, пригибаясь под тяжелыми фонарями, свисавшими с потолка тяжелыми каплями в металлической обрешетке.
– Пацаны, – негромко крикнул он вглубь коридора. В полной тишине его голос прозвучал не то чтобы громко, но как-то незнакомо для него самого. На окрик никто не откликнулся, и Федор решил идти вперед.
Шагов через тридцать коридор стал заметно опускаться и резко забирать вправо. Лохмотья застарелой паутины кое-где свисали с фонарей, отчего Чемезову приходилось пригибаться все сильнее, чтобы не цеплять их лбом.
– Пацаны, да где вы уже? – снова позвал он пустоту. Но на этот раз услышал весьма скорый ответ:
– Да иди уже скорее, тут мы, – долетел до него голос Мельникова.
Еще через несколько минут Федор увидел и самого Артема. Он стоял вплотную к спине Славки, перед которым, судя по всему, была еще одна дверь. Федор подошел к ним впритык, перегнулся через плечо Артема и поглядел вперед.
– Закрыта? – почти с надеждой спросил он Славку.
– Сейчас узнаем! – отозвался тот.
– Блин, Слав, что хоть там может быть, ты знаешь?
– Портал! – загадочным полушепотом произнес Мельников.
– Какой к черту еще портал? Слушайте, пацаны, мож, ну его?
– Открываю, – не слушая его, произнес Славка и потянул за ручку.
Дверь дрогнула, поддалась и стала открываться. Она оказалась много толще первой, Славке приходилось прилагать видимое усилие, отворяя ее. Всем троим пришлось немного попятиться, позволяя двери открыться настежь, и представшая перед ними картина заставила их немало удивиться.
Огибая головами последний фонарь и подталкивая друг друга, они дружно вывалились на перрон какой-то неизвестной им станции метрополитена. Станция, безусловно, была давно заброшенной – в тусклом и непонятно откуда идущем свете отчетливо был виден большой слой пыли, в стене, из которой они вышли, то тут, то там зияли проплешины отвалившихся мраморных плит, осколки которых бесформенными кучами лежали тут же вдоль стены. Железнодорожный путь был только один, у другого края платформы.
– И где мы? – задал вопрос Артем. – Не помню я что-то такой станции.
– Заброшка, – произнес Говорун, – пацаны из клуба рассказывали, что вроде как две станции таких есть, которые построили, но так и не ввели.
– Почему? – спросил Чемезов.
– Официально все засекречено. А по слухам – чертовщина всякая начала происходить, после чего их законсервировали.
– Бр-р! – изобразил дрожь в голосе Мельников. – Интересно, откуда свет идет?
Постояв несколько секунд у выхода на платформу, студенты осмелели и решились немного пройтись. Посреди перрона по всей его длине были распределены три или четыре колонны, поддерживающие своды потолка, обложенные под стать стенам мраморной плиткой, также местами отпавшей. У одной из колонн Чемезов заприметил что-то, прислоненное с обратной стороны. Подойдя к ней поближе, он обнаружил небольшой деревянный раскладной стульчик, абсолютно, как ему показалось, не вяжущийся со всей остальной обстановкой. Только несколькими днями позже он осознал, что стульчик этот выглядел совершенно чистым, на нем не было и намека на слой пыли, но тогда этот факт остался незамеченным.
– М-да, вот уж тоскливое место, однако, – отозвался от другой колоны Артем, – а вы слышите, какая тут тишина. Мне кажется, я слышу, как сердце Славкино бьется.
И вправду, Федор только сейчас обратил внимание, что тишина, словно гигантское одеяло, накрывшее платформу, поглощала все звуки, делая воздух станции непроницаемым для звуков.
– Пацаны, сюда идите, – позвал друзей Славка, стоящий на краю перрона и смотрящий на рельсы. Когда Артем и Федор зачем-то вместе с найденным стульчиком подошли, он продолжил: – Гляньте на рельсы.
– Рельсы как рельсы, – резюмировал Мельников.
– На старые, правда, не похожие совсем, – высказался, в свою очередь, Федор.
– В точку! – сказал Славка. – Будто поезда и сейчас по ним ходят постоянно.
Артем вспомнил про фотоаппарат, достал его, направил объектив на платформу и, посмотрев в видоискатель, сделал снимок. Затем развернулся к спутникам и еще раз щелкнул кнопкой.
– Погоди, Артем, в кресле меня зафиксируй, – Федор разложил стул и сел на него, закинув ногу на ногу.
Пока Артем и Федор фотографировались, Славка спрыгнул на путь и стал что-то внимательно рассматривать внизу.
– Федька, дай ему стул. Говорун, ну-ка, присядь-ка, для истории.
Славка сел на стул, достал из кармана бутылку пива и замер для фото.
– Артем, я тоже хочу на путях, – воскликнул Федор.
Мельников с Чемезовым подтянули Славку обратно на перрон, после чего вниз спрыгнул Федор.
– Слав, дай-ка мне бутылку, Артем, а ты с той стороны зайди, я к тебе развернусь.
Федька расположился на стульчике, развернулся вполоборота, посчитав, что так и с пивом на переднем плане он будет выглядеть максимально брутальным.
– Готов! – крикнул он Артему. – Снимай!
Мельников прильнул к видоискателю. Все, что произошло затем, было настолько стремительно, что Федор толком ничего не понял.
Глядя в видоискатель, Артем мгновение спустя изменился в лице и испуганно вскрикнул:
– Что за черт?!
– Что такое? – удивленно спросил Чемезов.
– Федька, поезд! – истошно заорал Мельников. В безмолвии пространства его крик, совсем не похожий на шутку, был сопоставим с ревом двигателей авиалайнера.
Смысл услышанного в долю секунды дошел до Чемезова. Он развернулся: прямо на него из туннеля на полном ходу вылетал поезд. Все в той же обволакивающей полнейшей тишине – ни стука колес, ни характерного скрежета и скрипа. Ни единого звука.
Какие мышцы сработали, Федька не понял. Ослепленный одиноким прожектором, он в последний момент успел-таки каким-то образом отпрыгнуть и слиться спиной со стеной платформы.
В то же мгновение состав с ним поравнялся. С тусклым светом в салонах нескольких вагонов в гробовой тишине короткий состав за две-три секунды пролетел открытый станционный участок и снова скрылся в тоннеле.
Пожалуй, только сейчас Федор осознал случившееся. Сердце билось так, что каждый удар отдавался в ушах настоящим взрывом, а все они сливались в один сплошной гул. Глаза ничего толком не видели, никак не могли отойти от яркого света фары бешеного поезда.
Прошло, наверно, секунд двадцать, пока Чемезов смог прийти в себя и начать ощущать действительность. Бутылка пива разбилась о стенку, и теперь вся рука была в липком пенном ее содержимом, зрение вернулось, пульс от гула начал возвращаться к ритму. Он машинально посмотрел по сторонам и молнией выскочил на платформу.
Ни Славки, ни Артема нигде не было. Федька стал судорожно озираться по сторонам, но его спутников нигде не было.
– Что за? – язык прилип к небу. Чемезов, сделав усилие, чтобы сглотнуть, крикнул: – Пацаны?
Получилось сдавленно и вполголоса, точно так же, как бывает во сне, когда пытаешься кричать, но ничего, кроме мычания, не получается.
На автопилоте подняв руки к голове и растрепав волосы, облизнув совсем высохшие губы, Федька предпринял еще одну попытку позвать друзей.
– Пацаны! Славка, хорош чудить! Артем, что б тебя, вылазь! Да что происходит на сам…
Договорить не получилось. На последнем слове Чемезов физически почувствовал, как пульс снова начал зашкаливать, и им начала овладевать паника. Необъяснимый ужас, идущий откуда-то изнутри, сначала сжал желудок, а затем и легкие, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. Страх, идущий от самого подсознания, выдал организму команду «БЕЖАТЬ», после чего сознание Чемезова отключилось.
В себя он пришел только на набережной Невы, одиноко бредущий в сторону Финского залива. Как он выбрался из метро и как оказался тут, вспомнить он не мог. Рука по- прежнему была липкой от пива, но более ничего не напоминало о случившемся.
Кроме одного факта – шел он абсолютно седой, однако видеть этого пока еще не мог...
Федор Васильевич вздрогнул. Образ из прошлого задрожал, стал бледнеть и, наконец, полностью растворился. Чемезов допил кофе, еще коротко взглянул на фотографию на стене и развернулся к монитору.
Ни Вячеслава Говоруна, ни Артема Мельникова он с тех пор больше не видел. А через год на его домашний адрес пришло письмо. В конверте была лишь фотография формата А4 того самого момента с той самой станции. И никакой записки.
– Вот и я, Иван, все думаю, как так? – промолвил Чемезов и снова углубился в работу.